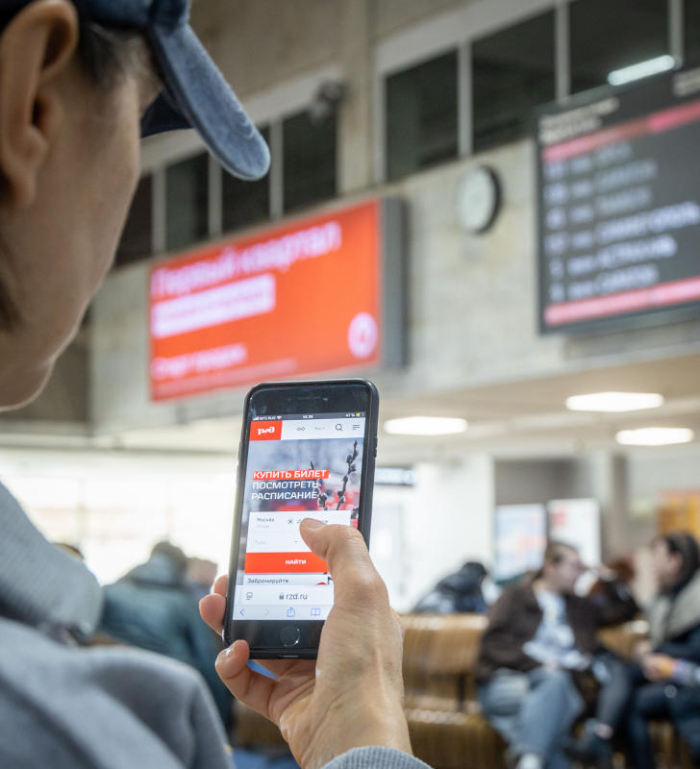Автор фото: 123RF/Legion-Media

Руслан Юсуфов,
футуролог
– На чём основываются ваши прогнозы?
– В сегодняшних условиях усиленной турбулентности мы не пытаемся угадать или спрогнозировать будущее, а стремимся увидеть палитру возможных вариантов развития событий. Любой внезапно возникший фактор может развернуть предположения на 180 градусов, поэтому мы с командой работаем с многовариантностью сценариев, оценивая причинно-следственные связи, ведущие к каждому из них.
Работа строится одновременно с десятками образов будущего. Мы используем комплексный подход, сочетая количественные и качественные исследования, анализируем первичные и вторичные данные, отслеживаем тренды и слабые сигналы в самых разных областях – от патентов и инвестиций до происходящего в медиапространстве, что помогает нам оценивать вес и вероятность каждого из возможных сценариев.
– Какие технологии, вероятнее всего, изменят нашу жизнь уже в ближайшие 10–20 лет?
– Прежде всего это сквозные технологии, которые влияют на все сферы нашей жизни, а также на любую индустрию, процесс и функцию внутри компаний. К ним точно относятся искусственный интеллект, квантовые вычисления, биотехнологии и сверхумная инфраструктура. Причём последняя – в широком смысле. От умных городов до автономных транспортных сетей.
Важно понимать, что технологические прорывы происходят не потому, что одна технология достигла зрелости, а потому, что периферийные технологии развились до такого уровня, когда они могут поддерживать первую и дать ей возможность раскрыть свой потенциал.
Например, искусственный интеллект (ИИ) существует не сам по себе как набор алгоритмов. Он зависит от данных и их качества, связи, высокопроизводительной памяти, а также вычислительных технологий. При анализе всей технологической вертикали мы дойдём до производства чипов на сложнейших автоматизированных заводах и даже до редкоземельных элементов. Тот же ИИ имеет настолько широкий набор прикладных применений, что мир с ним представляется очень разным. Можно вообразить десятки сценариев, в одном из которых он раскрывает потенциал человека, а в другом человек оказывается промежуточным звеном, уступая место ИИ как следующему этапу эволюции. Как ни странно, мы можем говорить о технологиях, которые повлияют на будущее, но при этом абсолютно неоднозначно, каким это будущее будет.

фото: 123rf/legion-media

фото: 123rf/legion-media
– Мир высоких технологий отличается от той среды, в которой человек долгое время находился. Как могут измениться сами люди в ходе адаптации к новой реальности?
– На мой взгляд, здесь можно выделить два разнонаправленных тренда. Первый связан с усилением наших возможностей и всё большим погружением в «цифру». Человек будет дополнять себя новыми элементами. Например, нейроимплантами, благодаря которым станет лучше слышать, видеть и даже думать. По сути, превратится в киборга, и далее можно выбирать любую антиутопию, какая вам нравится. Но есть и другая сторона: человек не успевает адаптироваться к такому потоку информации. Вот показательный пример – на одной из стриминговых платформ экран был разделён на несколько частей: в одной мультик, рядом стриминг, в другой кто-то играет в игру. То есть мы стараемся уместить ещё больше информации в единицу времени. Мы уже находимся на треть интеллектуально в телефоне, на треть в диалоге, на треть в своих мыслях и пытаемся воспринимать все эти потоки одновременно. Это гонка не только за информацией, но и попытка удовлетворить дофаминовые потребности, которые всё больше растут. Человек привыкает к бесконечному скроллингу ленты и превращается отчасти в зомби, но выйти из этой гонки уже не может.
Мир стремительно меняется, и нам приходится к нему заново адаптироваться. Технологии устаревают за полгода или даже за квартал. Возникает ощущение, что ты не успеваешь за прогрессом. Это выматывает, вызывает стресс, в том числе экзистенциальный. Особенно у людей постарше, которые состоялись как профессионалы, и теперь им нужно «обнулиться», начать с чистого листа.
Поэтому второй тренд – запрос на медленные технологии и цифровой детокс. В том самом поезде будущего, возможно, особым спросом будет пользоваться вагон-ретрит или классический вагон-ресторан – место, обеспечивающее человеку комфорт и понятное состояние. Не исключено, что это даже станет премиальным сервисом. В мире, где можно получить любое синтетическое удовольствие или переживание, будет особенно цениться подлинность.
– Люди будут отказываться от цифровизации?
– Думаю, мы увидим всё большее расслоение. С развитием дипфейков появится ещё больше возможностей манипулировать человеком. Люди будут пытаться «выписаться» из «цифры». Это касается в первую очередь старшего поколения – тех, кто родился в аналоговую эпоху и вынужден был учиться жить в новой реальности. А те, кто родился в цифровом мире, уходят глубже в метамиры. Они уже живут там: человек большую часть дня может быть гоблином или эльфом, и его друзья тоже. Это целый параллельный мир со своей экономикой и социальными взаимодействиями. В этом я вижу серьёзный вызов – сможем ли мы общаться друг с другом, если нас разнесёт по разным субъективным реальностям? Не станем ли мы через 10 лет друг для друга инопланетянами?
– Вы говорите о конфликте поколений?
– Поколения – это лишь первый уровень поляризации. Уже сегодня мы проживаем несколько параллельных жизней, у нас множество разных ролей. Эти роли часто не видны, но они влияют на принятие решений. Через некоторое время начнём думать не только об информационной, но и о когнитивной безопасности. Медиа и генеративный ИИ уже создают гиперкастомизированные нарративы – для каждого человека свой персонализированный контент, связанный с его цифровым профилем. Так, картина мира, сформированная для меня, будет сильно отличаться от вашей. Думаю, мы увидим атаки нового уровня. Например, на топ-менеджеров компаний, которых будут искусственно помещать в информационный пузырь, что повлечёт за собой неправильные решения. Потому что все факты и прогнозы для них будут сфабрикованы.
– Что будет с миром, если каждый окажется в информационном пузыре?
– Если концептуально подумать о ситуации, в которой нас распределит по 8 млрд субъективных реальностей, то людям придётся искать общие ценности, правду, контекст. Мы видим противостояние Запада и Востока, либеральных и консервативных ценностей. Это связано с политикой, религией и другими аспектами, но важно понимать, что за всем этим стоят фундаментальные вопросы. Кто мы? Куда идём? Чем руководствуемся? Что для нас важно? И здесь много слоёв проблемы. Например, у ИИ в виде больших языковых моделей, безусловно, есть ангажированность. На чьих текстах они обучались? Есть ли там искажения в пользу одной культуры, попали ли туда тексты из разных стран или только из The New York Times? Когда появился китайский DeepSeek, все обсуждали его цензуру в отношении идеологии КНР и то, как разные модели интерпретируют историю. Это столкновение происходит на уровне самого нарратора – того, кто рассказывает нам историю. Это напрямую влияет на то, во что мы будем верить завтра. Для сегодняшнего ребёнка умная колонка или будущий домашний робот становится членом семьи. С этим инструментом выстраиваются парасоциальные отношения – он учит, как думать, во что верить, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Какие компании стоят за этими умными девайсами? Речь не о том, что они заложат плохие ценности. Однако легко себе представить, что у коммерческой компании есть интерес в том, чтобы воспитать из ребёнка управляемого потребителя.
В этом смысле DeepSeek или его аналоги руководствуются в том числе идеей продвижения своих ценностей. Условная африканская страна, у которой нет своих мощностей и ресурсов для создания искусственного интеллекта, будет выбирать, чью языковую модель использовать в самых разных сферах – от школ до законотворчества. Тогда влияние происходит уже не на уровне медиа, а той инфраструктуры, которая создаёт нарративы. Определённые смыслы будут производиться не только для каналов потребления информации, но и – самое главное – для принятия решений.
Если поддаться поляризации, то человечество получит больше поводов для конфликтов. Но, выбирая быть умнее, мудрее и прозорливее, люди смогут использовать технологии для того, чтобы в обществе существовал плюрализм мнений и мы могли сравнивать разные подходы, принимать взвешенные решения.
– В контексте масштабных изменений человек нередко переживает экзистенциальный кризис. Не приведёт ли нас цифровизация к необходимости переизобретать смыслы и ценности?
– Это ключевой вопрос. Удивительно, что, говоря о технологиях, мы неизбежно приходим к вопросам духовности, новой этики и философии, которая должна объяснить нам, как жить в незнакомом мире. Я вижу два возможных сценария. Первый – чем сложнее становятся технологии, тем сильнее люди будут тянуться к простым смыслам. Мы уже наблюдаем ренессанс традиционных ценностей – семья, природа, ручной труд. Даже крупные управленцы экспериментируют с созданием закрытых деревенских анклавов для сотрудников. Не все до конца понимают истоки этой мотивации, однако запрос на ценности, которыми жили наши предки, будет только расти. Во втором сценарии будем искать ответы в магическом мышлении, которое никуда не исчезло. Сегодняшние примеры слияния технологий и эзотерики уже поражают. В Китае наблюдается бум ИИ-прогнозистов: нейросетям можно скормить любую псевдонауку, древние системы гаданий. Это то же магическое мышление, но в новой обёртке и с возможностью персонализированного диалога. Вероятно, появятся культы новой духовности – от медитации через нейроинтерфейсы до религий, основанных на ИИ-пророчествах, где «божество» сможет напрямую общаться с каждым последователем. И когда у человека заберут эту «коробку для общения с божеством», возникнет экзистенциальный кризис – он больше не сможет задавать вопросы и получать ответы.
– В ходе разговора вы неоднократно затрагивали тему угроз, исходящих от новых технологий. Какие вы видите ключевые риски?
– Чем более цифровыми мы становимся, тем больше рисков появляется. Такие риски включают социальную инженерию, когнитивные атаки и манипуляции, результатом которых становится принятие неверных решений. Они приводят в том числе к краже денег со счетов, утечке паролей и данных.
Есть и другие риски, которые связаны с нашим выбором и предпочтениями. Вероятно, мы увидим слияние ИИ не только со СМИ, но и с политикой. Представьте, можно сгенерировать тысячи политиков и использовать их для тестирования разных идей и сюжетов. И то, что конвертируется в интерес у общества, станет основой для новых движений.
Под угрозой оказывается также инфраструктура, частью которой становится и сам человек. Например, хакерским атакам будет подвергаться автономный транспорт, да и в целом вся умная среда. Целью злоумышленников может стать как создание логистического коллапса, так и банальный угон автомобиля.
Что же касается людей, то представим ситуацию, когда хакеры взламывают бионические протезы, заражают их вирусами и требуют заплатить выкуп за разблокировку. То есть атаковать будут тело или даже мозг.
Через 10–20 лет киберпреступность не только алгоритмизируется, но и станет невидимой. Если на вас совершат атаку, вы можете даже не понять, как это произошло – человек просто не способен противостоять такой интеллектуальной сложности, автоматизации и скорости.
– Что поможет обезопасить себя в киберпространстве?
– Самая большая опасность – это не технологии, а все ещё человек. Мы сами для себя представляем угрозу своей готовностью доверять технологиям без вопросов, скачивать случайные приложения или переходить по ссылкам от незнакомцев. Если критическое мышление станет дефицитным ресурсом в мире продвинутых технологий, мы не выживем. Необходимо принимать решения не под чьим-то влиянием, а исходя из собственной взвешенной картины мира.
Конечно, это проще сказать, чем сделать. Сегодня и в будущем будет существовать огромный дисбаланс между отдельным человеком без ресурсов и крупными игроками – корпорациями, государствами, преступными группами. Мы все становимся потенциальными жертвами, как те самые бабушки, которых обманывают мошенники. Поэтому кроме просвещения нужны серьёзные регуляторные меры, чтобы не упустить новые возможности и при этом не потерять во всём этом человека.
Кроме того, это ещё и вопрос взросления общества в целом. От родителей требуется больше осознанности в воспитании детей – не только «учись хорошо» или «не общайся с незнакомцами», но и понимание происходящего в киберпространстве.
В течение многих лет, изучая киберриски для детей и подростков, мы сталкиваемся с мифологизированным представлением родителей о том, какие угрозы несёт в себе Интернет. Часто видим их желание запретить, заблокировать доступы. Но сегодняшние дети, какие бы фильтры им ни установили, найдут способ обойти ограничения. В той же школе сверстники расскажут, как это сделать.
Поэтому мой главный тезис – технологии опережают нашу способность к ним адаптироваться. Мы не можем решить эти сложные проблемы простыми призывами к критическому мышлению, воспитанию, просвещению или цифровой гигиене. Это гораздо более сложный и комплексный вопрос подготовки человека к выживанию, самореализации и счастью в мире, который пересобирается слишком часто.
СПРАВКА
Руслан Юсуфов – основатель и управляющий партнёр компании MINDSMITH. Эксперт в области цифровой трансформации, технологических трендов и информационной безопасности. Автор многочисленных исследований и публикаций в российских и международных СМИ, а также постоянный спикер на профильных индустриальных мероприятиях (более 1000 – в восьми странах).